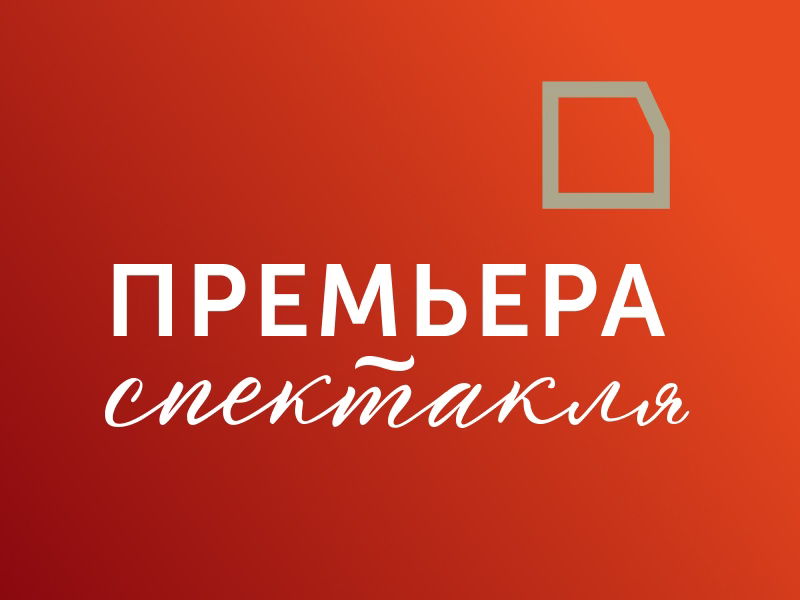Антон Киселюс: концентрация энергии на "Пяти вечерах" была невероятной
26 май 2017
Антон Киселюс после премьеры спектакля "Пять вечеров" рассказал о своей работе в Абхазии и приоткрыл завесу тайны о том, откуда же, почему и зачем на сцене взялся так запомнившийся зрителям лифт. Интервью взял Антон Очиров.
Начну издалека. Самая большая проблема — как и во многих театрах, которые не в больших городах — это нехватка специалистов. Во всех отраслях. Актёры — они хорошие актёры, но до прихода Ираклия Хинтба пять лет не было ни одной премьеры, ситуация в театре сложилась тяжёлая. А актёр — это такая профессия, что, когда ты сидишь на месте год, уже многое теряется. И так во всех отраслях. Не хватает художников-бутафоров, не хватает других специалистов — абсолютно везде. Поэтому какие-то вещи сделаны, конечно, на пределе. И, что касается актёров, то, вообще, театр начинается с любви, тепла и доверия. Они поверили, они доверились — и дальше не важно, что они актёры, важно — что они человечески поняли.
То есть, тебе было важно найти человеческий контакт?
Конечно. Важно найти человеческий отклик. У нас долгое время не складывалось, одно, другое. Важно было найти «внутреннюю боль», потому что, как только тебя задевает что-либо человеческое, по-человечески задевает, то дальше, как ты это выразишь, как актёр, как поэт, как художник — это уже твой путь, как ты это сделаешь. Но ты можешь уже оттолкнуться. И, когда это нашлось, всё встало на свои места. Дальше они уже знали, что нужно делать.
То есть твой труд, как режиссёра, был в том, чтобы найти человеческое начало, найти общий язык и тогда «работа пошла»?
Общий язык — сложное понятие. Я скажу - «найти болевую точку».
Что это значит? Нечто, что «зацепило» бы актёра, чтобы он вовлёкся в свою роль, стал её «проживать»?
Да. Вот мы говорим, обсуждаем, пробуем одно, другое, и вдруг - раз! Он говорит: «Я понял, что это такое». Например, мы долго не понимали игру со Славиком (*Инар Нармания), и вдруг возникла формулировка: «она его мама». «Маму обидели», «маму предали». И всё встало на свои места: это задевает, трогает.
Да, это была потрясающая сцена: когда главного герой уходит, его пытается задержать племянник героини, у них случается драка. Весь спектакль с полным вовлечением проходил, но это была одна из впечатляюще отыгранных сцен.
Да. Это же спектакль про послевоенные реалии, а после войны много было семей без родителей: мать у него погибла в блокаду, он воспитывается тётей... Володин (*автор пьесы) сам воспитывался в семье своего отца, долгое время не видел мать, был чужим человеком для новой семьи своего отца, поэтому это вещи тонкие... Поэтому — как работать? Дальше — как только весь коллектив, вся команда «задета», «обожжена» этим, главной идеей, этой человечностью, этой историей, - всё, тогда «пошло». Это в разное время может происходить. Например, приехал Женя (*Евгений Лисицын), художник по свету, и он «схватил» сразу - увидел нашу задумку, наши декорации, и это его захватило. Он увидел первый прогон, а он самый проблематичный, многое не складывалось, но его сразу вовлекло, он понял, что нужно делать. Художник-постановщик, Виталий Кацба, замечательный художник — и для него это была большая работа, потому что это кардинально противоположно тому, что он делал в абхазском театре до этого — он делал живописные работы, а здесь — жёсткий конструктивизм. Всё жёстко подчинено движению, переходу, какому-то «полёту».
И при этом зрителей очень поразил лифт.
Я уже не помню, как родился лифт, то точно помню, что это был момент нашего первого знакомства, и я сказал такую фразу: «Это должен быть коммунальный лабиринт», коммунальный дом. И я сел и вспомнил: «Ой, слушайте, везде, где я жил в Питере, были лифты». И родилось: - а если мы посередине поставим лифт, и дальше всё понеслось.
То есть декорации рождались в «творческом процессе»?
Конечно, мы всё это дело «родили» ещё задолго до: четыре месяца назад мы сделали макет, концепцию. Другое дело, что это был просто макет, конструкция. Специально сделали минимум предметов мебели, чтобы не скрываться за мебелью. Стол, например, на всю коммуналку один, и они его таскают туда-сюда в процессе... Я жил в коммуналке в Питере, и там был огромный дубовый стол, который не проходил в дверь, и его приходилось разворачивать, таскать кому-то... Конечно, без проблем ни одна работа не обходится. Но, скажу, что конфликтов не было вообще. Не было момента, когда кто-либо скандалил. Да, что-то не успевали сделать в срок — ну, не успевали. Всё было спокойно в этом смысле. Я понимаю — где-то это менталитет у ребят, я с этим смирился — да, они могут неделю сидеть, пить кофе, а в последний момент начинают что-то делать. И ты волнуешься, думаешь: «что-то пойдёт не так». Я долго к этому не привыкал. Но, в конечном итоге, спектакль, «детище», он окупает всё.
Ты доволен тем результатом, который получился?
Ну, режиссёр вообще никогда не может быть доволен, такая профессия. Я доволен тем, что мы смогли донести до зрителя, подарить зрителю. И отдача была — вчера был абсолютно полный зал. Я первый раз такое увидел — в Москве нигде такого не увидишь, даже на самых «бешеных» премьерах: чтобы зал стоял. Труппа три-четыре раза выходила на поклон...
Отличалась ли премьера от предпоказа? Театральные люди часто говорят, что предпоказ зачастую бывает «удачнее» премьеры.
Да, премьера была лучше! Воздух в зале стоял такой, что его «можно было резать ножом». Это был спектакль, на котором «всё ломалось» - перегорели фонари, во время спектакля... Женя (*Евгений Лисицын) побежал менять лампочки... Концентрация энергии была невероятной. Но, в конечно итоге, мы эту энергию подчинили: зритель и плакал вместе с нами, и смеялся там, где надо: мы не ожидали, что во втором акте все сцены перемежались овациями — это было настолько тепло....Вообще, ты спросил: «что получает режиссёр»? Есть такой режиссёр, Эймунтас Някрошус. Он однажды сказал такую фразу: «Смысл работы режиссёра — перевод».
Перевод? Языка пьесы на язык театра?
Да. Перевод во всём. Ещё он сказал, и мне это очень запомнилось, что «работа режиссёра — это задача собрать команду». Собрать, и объяснить всё. А дальше — история, твой замысел — она сделает всё своё. 95 процентов — ты собираешь команду, чтобы они были вместе, а далее — ты переводчик, во всём. Ты должен объяснить пьесу всем, чтобы они её поняли, объяснить свой замысел. А дальше — начинать «вместе жить». Если ты актёру объяснил и он понял — то он сделал.
Давай непосредственно поговорим о спектакле. Очень интересно было читать отзывы актёров о нём. Например, исполнитель главной мужской роли упоминал о том, что его персонаж, его душевные метания — что он от женщин уходит, приходит — говорил, что этот персонаж ему не близок. Мне показалось, на спектакле, что главный герой себя всюду вёл как «супермен». Основная душевная драма его персонажа, который вернулся к возлюбленной после 17 лет разлуки, в том, что он захотел показаться лучше, чем он есть - он солгал ей, что он инженер, хотя был шофёром. И, поскольку он честный и прямой человек, эта ложь его настолько вывела из себя, что он предпочёл сбежать от своей любви. И вот тот душевный разлад главного героя, подспудно, по ходу пьесы, понятен, но на уровне актёрской игры герой всегда «остаётся суперменом», мужчиной.
Конечно. Это очень точная вещь. Точно Володиным написанная. Мужские комплексы. Она же его встречает. Она его забыла. Тут всё ясно. Но одно дело — если бы она его не любила, тут бы он уехал просто, и всё. Но она-то нервничает. Она его встречает очень остро, поэтому ему надо (каким-то образом) соответствовать. Но она-то что? Работает «мастером на «Красном Треугольнике» - в этот момент зал засмеялся. Смешно. А он кто такой? А он ещё хуже. Он дальнобойщик чёрт знает где. Где-то в Сибири. Но - «надо же соответствовать». Потому что она — нервничает, ей эта встреча важна, и — соответственно — нормальные мужские комплексы, нормальные мужские страхи. И естественно, что никто не хочет их показывать.
Этот момент очень явственно проявляется в сцене, когда она его ищет, приходит в гости к инженеру, а герой стоит с кастрюлей в руках за стенкой и боится показаться героине на глаза.
Конечно. Так оно и есть. Мужчина боится не соответствовать жизни женщины, боится, что он её может поломать. Для меня это остро. Например, я сейчас в Абхазии, а через два дня я буду в Латвии. Такая жизнь, такая работа. И что мне делать? Должен ли я «осчастливить» какую-либо женщину? Даже, если я встречу женщину, которую я любил или, может быть, люблю, мне, скорее всего, останется только сказать: «прости». Мне нужно ехать, полгода быть там...
Ты своими словами сейчас разочаровываешь женщин. Потому что я собирал вопросы зрительниц после премьеры к тебе, и одним из главных был: «долго ли ты ещё здесь будешь»?
Я ещё обязательно приеду. Я так чувствую. (смеётся). Но что касается исполнителя роли главного героя, Армена Амирбекяна, то, уверяю тебя, он про это всё знает гораздо лучше, чем мы с тобой, вместе взятые. Конечно, они немного отвыкли играть серьёзные драматические вещи.
Расскажи про драму. Главная женская роль, в исполнении Анны Гюрегян, безусловно, держала на себе весь спектакль: основная драма её героини — обретение своей потерянной любви юности, и интересный момент — последняя сцена, где она гладит своего любимого по голове — она очень экзальтирована. И зал испытывает катарсис. Зрители упоминали, что «не могли сдержать слёз». Как ты думаешь, драма в театре — всегда ли она должна быть гипертрофированно показана? Чтобы зритель вовлёкся и начал сопереживать?
Нет, не всегда. По-разному бывает. Например, мы знаем пьесу Островского «Гроза». И там персонаж — Кабаниха. Бешеная женщина. Практически во всех спектаклях её показывают злющей-презлющей. И тут вдруг — неожиданно — режиссёр Лев Эренбург делает спектакль, который начинается невероятно — выходит очень милая, интеллигентная женщина, и начинает мыть сыну ноги. И вот такая интеллигентная женщина всех «сгибает в дугу».
То есть режиссёр нашёл неожиданный ход в интерпретации?
Конечно. И потом — ведь откуда взялся лифт? Каким образом, как всё это сошлось? Нельзя целоваться на сцене! Когда произошла первая читка, на меня уставилось две пары глаз с вопросом: «а что, мы будем целоваться на сцене?». Я говорю: «А что? В театре это красиво, поцелуй на сцене». Мне говорят: «У нас нельзя».
Пхащароуп, по-абхазски.
Да. «У нас нельзя целоваться, мы не можем». И — с этого момента начался театр! Почему? Потому что надо найти, как решить эту проблему. Как придумать? Значит, их чем-то надо прикрыть. И — лифт! Пошёл лифт в этом пространстве. И возникает настоящая драма. Как она есть — прекрасная, простая. Два человека, в подъезде. В обычном подъезде. Но — это поцелуй, это встреча, и этот лифт становится самым прекрасным на свете лифтом.
Прекрасно! Теперь мы поняли, откуда на самом деле в спектакле появился лифт.
У меня есть хороший друг, художник по металлу. Он очень требовательный к театру, он работал с Виктюком, ещё в те времена, и у него есть такая формулировка: «зачем-то и почему-то». В спектакле всё должно быть «зачем-то и почему-то»! Если у тебя просто так что-либо возникает в пространстве, то это «вставной зуб».
То есть говорят, что «театр начинается с вешалки», а, выходит, что «театр начинается с затруднения». Нельзя целоваться — и поэтому появляется лифт.
Про вешалку — это говорил Константин Сергеевич, и он имел в виду конкретную вещь — образ. Ты «берёшь с вешалки» этот образ, и начинается театр. Но Станиславский, в конце жизни говорил, что театр начинается с команды. Но тот же Станиславский говорил, что «препятствие — это трамплин к действию». Как только тебе говорят, что «на сцене нельзя целоваться», а у автора написано: «поцелуй», то без этого никуда не обойдёшься. Они целуются и в фильме, и на других постановках этой пьесы... Поэтому у режиссёра возникает азарт. Как это сделать? Каким образом? И так возникает изящная вещь - лифт. Я вчера три-четыре раза перечитывал отзывы на спектакль, и там возникало слово «органично». Такой отзыв от зрителя означает, что, вот, он шёл-шёл по улице, и с ним случилось «продолжение жизни». Для меня это звучит так, и это для нас — самая большая похвала.
Безусловно, этот спектакль вывел театр в Абхазии на новые высоты.
Будем надеяться! Нашим спектаклем заинтересовались, и в Москве, и в Петербурге.
То есть — Ираклий Хинтба планирует вывозить спектакль за границу?
Не знаю, «планирует ли», но то, что вывезет — это точно. Есть фестиваль «5 вечеров», мир должен увидеть.
Скажи: а как вывозят спектакли? Перевозят ли декорации?
Это всё просто и решается на месте. Весь этот конструктив, по большому счёту — станки стандартные, их можно разбирать или нет, пандусы можно найти на месте, по сути говоря, придётся перевезти только лифт.
То есть лифт получается таким ключевым моментом.
Конечно!
Лифт, чтобы скрыть поцелуй.
Конечно! (смеётся). Это же история про жизненное несовпадение: она, он... Он пытается ей что-то сказать: «услышь меня, услышь», а она, как женщина, чувствует, что здесь что-то не так, и начинает его «раскапывать». А ему не нужно, чтобы его «раскапывали», ему нужно, чтобы его услышали.
Антон, Ираклий Хинтба, гендиректор РУСДРАМа, не так давно упоминал, что ему не хватает в Абхазии театральной критики. Он очень активно работает над тем, чтобы в театре всё было хорошо, но, возможно ему не хватает «обратной связи», или он просто хочет, чтобы в Абхазии театральная критика возникла как институция. Каково твоё мнение? Важна ли театральная критика? Если да, то как можно сделать, чтобы она появилась в стране?
Скажем, не Ираклию её не хватает, а её не хватает вообще. Но её не хватает и везде. Сегодня те ребята, которые заканчивают театроведческие факультеты, они зачастую идут в продюссеры, в организаторы, и прямым они своим прямым занятием — то есть обсуждать театральное высказывание, реагировать на него, не занимаются. Важна ли театральная критика? Конечно. Она создаёт театр. Она его и создаёт, и формирует. Потому что мы, со своей стороны, делаем, что угодно, но, если в ответ на наше высказывание нет адекватной этому высказыванию реакции, то тогда мы и сами не можем оценить, понять то, почему наш спектакль получился именно таким, а не другим. Что у нас получилось, что нет: тогда и наше образование будет происходить, и развитие публики театральной, конечно.
Ты говорил, что на вашем спектакле была очень вовлечённая реакция зала: были и овации, и сейчас в социальных сетях люди пишут очень комплиментарные оклики: то есть зритель очень эмоционально отреагировал на вашу работу. Театральная критика для тебя что-то другое?
Да, зритель отреагировал. Но не возникло ни одного человека, который бы «разобрал» спектакль. Который бы посмотрел не с точки зрения обывателя, а с точки зрения критика, способного увидеть, что в постановке работает, а что не работает — каким образом и почему именно. То есть никто не вник в «структуру» нашей постановки. Картинку посмотрели, картинка понравилась: каким-то образом «попала», зрители прониклись. Но осознать нашу картинку, разобрать её — нет, такого не было.
То есть тебе не хватило «критической рефлексии на постановку»?
Да, разбора не хватает. Но такое во всех аспектах жизнедеятельности, я заметил: не хватает людей, которые смотрят в суть, в структуру действа. В этом тоже была сложность работы в театре — особенно, с цехами, со «службами». Потому что приходится объяснять, самому «застраивать». А когда ты сам объясняешь структуру, зачастую у людей нет желания вникнуть, проанализировать. А что касается условий появления театральной критики, то, конечно, это наличие серьёзного художественного высказывания. Сейчас это постепенно появляется. РУСДРАМ этим и отличается, а, значит, через какое-то время возникнет и «ответ». Возможно, появится талантливый человек, который захочет «разобраться» в происходящих в театре и в спектакле.